Гендерные проблемы
 Обложка первого издания | |
| Автор | Джудит Батлер |
|---|---|
| Язык | Английский |
| Предметы | Феминизм , Философия , Квир-теория |
| Издатель | Рутледж |
Дата публикации | 1990 |
| Место публикации | Соединенные Штаты |
| Тип носителя | Печать (в твердом и мягком переплете) |
| Страницы | 272 (издание в мягкой обложке в Великобритании) |
| ISBN | 0-415-38955-0 |
| Предшествовал | Предметы Желания |
| С последующим | Тела, которые имеют значение |
| Часть серии статей о |
| Феминистская философия |
|---|
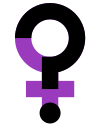 |
«Гендерные проблемы: феминизм и подрыв идентичности» [1] [2] — книга постструктуралистского теоретика гендера и философа Джудит Батлер , в которой автор утверждает, что гендер перформативен, то есть он поддерживается, создается или увековечивается посредством итеративных повторений при разговоре и взаимодействии друг с другом.
Краткое содержание
Батлер критикует одно из центральных предположений феминистской теории , что существует идентичность и субъект, требующие представительства в политике и языке. Для Батлер « мужчины » и « женщины » — это категории, осложненные такими факторами, как класс , этническая принадлежность и сексуальность . Более того, универсальность, предполагаемая этими терминами, параллельна предполагаемой универсальности патриархата и стирает особенность угнетения в разные времена и в разных местах. Таким образом, Батлер избегает политики идентичности в пользу нового, коалиционного феминизма , который критикует основу идентичности и гендера . Они [c] бросают вызов предположениям о различии, часто проводимом между полом и гендером, согласно которому пол является биологическим, в то время как гендер культурно конструируется. Батлер утверждает, что это ложное различие вносит раскол в якобы единый субъект феминизма. Половые тела не могут иметь значения без гендера, и кажущееся существование пола до дискурса и культурного навязывания является лишь следствием функционирования гендера. Пол и гендер оба конструируются .
Рассматривая работы философов Симоны де Бовуар и Люс Иригарей , Батлер исследует связь между властью и категориями пола и гендера. Для де Бовуар женщины представляют собой недостаток, на фоне которого мужчины устанавливают свою идентичность; для Иригарей эта диалектика принадлежит к «означающей экономике», которая полностью исключает представление женщин, поскольку использует фаллоцентрический язык. Оба предполагают, что существует женское «самотождественное существо», нуждающееся в представлении, и их аргументы скрывают невозможность «быть» гендером вообще. Вместо этого Батлер утверждает, что гендер перформативен: никакой идентичности не существует за действиями, которые якобы «выражают» гендер, и эти действия составляют, а не выражают, иллюзию стабильной гендерной идентичности. Если видимость «быть» гендером, таким образом, является следствием действий, на которые оказала влияние культура, то не существует прочного, универсального гендера: конституированный посредством практики перформанса, гендер «женщина» (как и гендер «мужчина») остается условным и открытым для интерпретации и «переобозначения». Таким образом, Батлер открывает путь для подрывных действий. Они призывают людей тревожить категории гендера посредством перформанса.
Обсуждая патриархат, Батлер отмечает, что феминистки часто прибегали к предполагаемому допатриархальному состоянию культуры как к модели, на которой можно было бы основать новое, нерепрессивное общество. По этой причине рассказы об изначальной трансформации пола в гендер посредством табу на инцест оказались особенно полезными для феминисток. Батлер пересматривает три из самых популярных: антропологический структурализм антрополога Клода Леви-Стросса , в котором табу на инцест требует структуры родства, регулируемой обменом женщинами; психоаналитическое описание Джоан Ривьер «женственности как маскарада», которая скрывает мужскую идентификацию и, следовательно, также скрывает желание другой женщины; и психоаналитическое объяснение траура и меланхолии Зигмундом Фрейдом , в котором утрата побуждает эго включать в себя атрибуты потерянного любимого человека, в котором катексис становится идентификацией.
Батлер расширяет эти описания гендерной идентификации, чтобы подчеркнуть продуктивные или перформативные аспекты гендера. Вместе с Леви-Строссом они предполагают, что инцест является «всепроникающей культурной фантазией» и что наличие табу порождает эти желания; вместе с Ривьером они утверждают, что мимикрия и маскарад формируют «сущность» гендера; вместе с Фрейдом они утверждают, что «гендерная идентификация является разновидностью меланхолии, в которой пол запрещенного объекта интернализуется как запрет» [5] и, следовательно, что «однополая гендерная идентификация» зависит от неразрешенного (но одновременно забытого) гомосексуального катексиса (с отцом, а не с матерью, мифа Эдипа ). Для Батлер «гетеросексуальная меланхолия культурно установлена как цена стабильной гендерной идентичности» [6] , и для того, чтобы гетеросексуальность оставалась стабильной, требуется понятие гомосексуальности, которое остается запрещенным, но обязательно в рамках культуры. Наконец, они снова указывают на продуктивность табу на инцест, закона, который порождает и регулирует одобряемую гетеросексуальность и подрывную гомосексуальность, ни одна из которых не существует до закона.
В ответ на работу психоаналитика Жака Лакана , постулировавшего отцовский символический порядок и подавление «женского», необходимое для языка и культуры, Юлия Кристева вернула женщин в повествование, заявив, что поэтический язык — « семиотический » — был проявлением материнского тела в письме, неподконтрольным отцовскому логосу . Для Кристевой поэтическое письмо и материнство являются единственными культурно допустимыми способами для женщин вернуться в материнское тело, которое их вынашивало, а женская гомосексуальность — это невозможность, почти психоз . Батлер критикует Кристеву, утверждая, что ее настойчивость в отношении «материнского», которое предшествует культуре, и в отношении поэзии как возвращения к материнскому телу является эссенциалистской: «Кристева концептуализирует этот материнский инстинкт как имеющий онтологический статус до отцовского закона, но она не рассматривает способ, которым этот самый закон может быть причиной того самого желания, которое, как говорят, он подавляет». [7] Батлер утверждает, что понятие «материнства» как давно потерянного убежища для женщин является социальной конструкцией и ссылается на аргументы Мишеля Фуко в «Истории сексуальности» (1976), чтобы утверждать, что представление о том, что материнство предшествует женщинам или определяет их, само по себе является продуктом дискурса.
Батлер разбирает часть критического введения Фуко к опубликованным им журналам Эркюлины Барбен , интерсексуальной персоны, которая жила во Франции в 19 веке и в конечном итоге покончила с собой, когда власти заставили ее жить как мужчина. В своем введении к журналам Фуко пишет о ранних днях Барбен, когда она могла жить своим гендером или «полом», как она считала нужным, как о «счастливом неопределенном состоянии неидентичности». [8] Батлер обвиняет Фуко в романтизме , утверждая, что его провозглашение блаженной идентичности «до» культурной записи противоречит его работе в «Истории сексуальности» , в которой он утверждает, что идея «реальной», «истинной» или «изначальной» сексуальной идентичности является иллюзией, другими словами, что «пол» не является решением репрессивной системы власти, а частью самой этой системы. Батлер вместо этого помещает ранние дни Барбина не в «счастливое неопределенное положение», а вдоль более широкой траектории, всегда являющейся частью более крупной сети социального контроля. Они, наконец, предполагают, что удивительное отклонение Фуко от его идей о репрессиях во введении может быть своего рода «исповедальным моментом» или оправданием собственной гомосексуальности Фуко, о которой он редко говорил и о которой он позволил себе дать интервью только один раз.
Батлер прослеживает размышления феминистки-теоретика Моник Виттиг о лесбиянстве как единственном обращении к сконструированному понятию пола. Понятие «пол» всегда кодируется как женское, согласно Виттиг, способ обозначить не-мужское через отсутствие. Женщины, таким образом сведенные к «полу», не могут избежать несения секса как бремени. Виттиг утверждает, что даже называние частей тела сексуальными создает фиктивное ограничение того, какие части тела можно считать эрогенными, социально конструируя сами черты и фрагментируя то, что когда-то было действительно «целым». Язык, повторяющийся с течением времени, «производит эффекты реальности, которые в конечном итоге неправильно воспринимаются как «факты». [9]
Батлер подвергает сомнению идею о том, что «тело» само по себе является естественной сущностью, которая «не допускает никакой генеалогии», обычной данностью без объяснений: «Как контуры тела четко обозначены как само собой разумеющаяся основа или поверхность, на которой начертаны гендерные обозначения, простая фактичность, лишенная ценности, предшествующая значению?». [10] Опираясь на размышления антрополога Мэри Дуглас , изложенные в ее книге «Чистота и опасность» (1966), Батлер утверждает, что границы тела были проведены для установления определенных табу относительно пределов и возможностей обмена. Таким образом, гегемонистская и гомофобная пресса истолковала загрязнение тела, которое вызывает СПИД , как соответствующее загрязнению сексуальной активности гомосексуалиста, в частности, его пересечения запретной телесной границы промежности . Другими словами, утверждение Батлер заключается в том, что «тело само по себе является следствием табу, которые делают это тело дискретным в силу его стабильных границ». [11] Батлер предлагает практику дрэг-апа как способ дестабилизировать бинарность внешнего/внутреннего, чтобы в конечном итоге высмеять идею о том, что существует «изначальный» гендер, и в игровой форме продемонстрировать аудитории с помощью преувеличения, что все гендеры на самом деле прописаны, отрепетированы и представлены.
Батлер пытается построить феминизм (через политику юридико- дискурсивной власти ), из которого гендерное местоимение было удалено или не предполагалось как разумная категория. Они утверждают, что даже бинарность субъект/объект, которая формирует базовое предположение для феминистских практик — «мы, «женщины», должны стать субъектами, а не объектами» — является гегемоническим и искусственным разделением. Понятие субъекта для них формируется посредством повторения, посредством «практики обозначения». [12] Батлер предлагает пародию (например, практику дрэг-обмана) как способ дестабилизировать и сделать явными невидимые предположения о гендерной идентичности и обитаемости таких «онтологических локалей», как гендер. [13] Перераспределяя эти практики идентичности и разоблачая, как всегда, неудачные попытки «стать» своим гендером, они верят, что может возникнуть позитивная, преобразующая политика.
История публикации
Впервые книга Routledge «Гендерные проблемы: феминизм и подрыв идентичности» была опубликована в 1990 году; другие публикации Routledge вышли в 1999, 2006 (Routledge Classics) и 2007 годах. [2]
Прием
Gender Trouble был рассмотрен Шейном Феланом в Women & Politics . [14] Работа пользовалась широкой популярностью за пределами традиционных академических кругов, даже вдохновив фэнзин Judy !. [15] [16] Батлер в предисловии ко второму изданию книги пишет, что они были удивлены размером аудитории книги и ее возможным статусом как основополагающего текста квир-теории. [2] Энтони Эллиотт пишет, что с публикацией Gender Trouble Батлер утвердился на переднем крае феминизма, женских исследований, исследований лесбиянок и геев и квир-теории. По словам Эллиотта, основная идея, изложенная в Gender Trouble , что «гендер — это своего рода импровизированное представление, форма театральности, которая составляет чувство идентичности», стала рассматриваться как «основополагающая для проекта квир-теории и продвижения диссидентских сексуальных практик в 1990-х годах». [17]
23 ноября 2018 года драматург Джордан Таннахилл прочитал весь текст «Гендерного беспокойства» возле здания венгерского парламента в знак протеста против решения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отозвать аккредитацию и финансирование программ гендерных исследований в стране. [18] [19]
Смотрите также
Дальнейшее чтение
- Джудит Батлер: Теория жизни Вики Кирби
- Батлер, Джудит (1993). «Тела, которые имеют значение: о дискурсивных пределах «секса». Нью-Йорк. Routledge. ISBN 9780415610155
Примечания
- ^ Батлер сказала: «Многие люди, которым при рождении был назначен «женский» пол, никогда не чувствовали себя комфортно с этим назначением, и эти люди (включая меня) говорят всем нам нечто важное об ограничениях традиционных гендерных норм для многих, кто выходит за их рамки. ... *Джудит Батлер использует словосочетание она или они». [3]
- ^ "' Какое местоимение я предпочитаю?" Батлер смеется... «Это они», - говорит Батлер... На дворе 2020 год, и Батлер выдает себя за «они» - поистине исторический момент». (« «Welches Pronomen bevorzuge ich?» Butler lachte ... . «Es ist They», - сказал Батлер ... . Wir haben das Jahr 2020 und Butler Outet sich als «they» - ein wahrhaft historischer Moment.») [4]
- ^ Батлер использует местоимения she/her и they/them . [a] Однако Батлер предпочитает местоимения they/them. [b] В этой статье для единообразия используются местоимения they/them.
Цитаты
- ^ Батлер 1990.
- ^ abc Батлер 2007.
- ^ Фербер 2020.
- ^ Фишер 2020.
- ↑ Батлер 1990, стр. 63.
- ↑ Батлер 1990, стр. 70.
- ↑ Батлер 1990, стр. 90.
- ↑ Батлер 1990, стр. 94.
- ↑ Батлер 1990, стр. 115.
- ↑ Батлер 1990, стр. 129.
- ↑ Батлер 1990, стр. 133.
- ↑ Батлер 1990, стр. 144.
- ↑ Батлер 1990, стр. 146.
- ^ Фелан 1992.
- ^ Макфаркуар 1993.
- ^ Батлер 1993.
- ^ Эллиотт 2002, стр. 150.
- ^ Бенс 2018.
- ^ Левенте 2018.
Ссылки
- Бенце, Хорват (2018). «В пятницу канадский автор в течение семи часов читал перед парламентом одну из самых известных книг по гендерным исследованиям (Pénteken hét órán át olvasta fel a гендерные исследования egyik legismertebb könyvét egy kanadai író a Parlament előtt)». 444 (на венгерском языке).
- Батлер, Джудит (1990). Гендерные проблемы: феминизм и подрыв идентичности. Нью-Йорк: Routledge. ISBN 0415900425..
- Батлер, Джудит (ноябрь–декабрь 1993 г.). «Возвращение лагеря в кампус». Lingua Franca .
- Батлер, Джудит (2007). Гендерные проблемы: феминизм и подрыв идентичности (1-е изд.). Routledge. ISBN 978-0-415-38955-6.
- Эллиотт, Энтони (2002). Психоаналитическая теория: Введение. Palgrave. стр. 150. ISBN 0-333-91912-2.
- Фербер, Алона (22 сентября 2020 г.). «Джудит Батлер о культурных войнах, Дж. К. Роулинг и жизни в «антиинтеллектуальные времена». New Statesman . Получено 27.09.2020 .
- Фишер, Кэтрин (13 июля 2020 г.). «Местоимение свободно от Тела, но оно не свободно от Рода (Gender und Grammatik: Das Pronomen ist frei vom Körper - aber es ist nicht frei vom Geschlecht)». Der Tagesspiegel Online (на немецком языке) . Проверено 24 декабря 2021 г.
- Левенте, Садай (2018). «Проблематический гендер: канадский писатель протестовал перед парламентом против прекращения исследования социального гендера Мерсе (Problémás nem: kanadai írótiltakozott a Parlament előtt a társadalmi nemek tanulmányának a megszüntetése ellen Mérce)». Мерсе (на венгерском языке).
- Макфаркуар, Ларисса (сентябрь – октябрь 1993 г.). «Возвращаем лагерь в кампус». Лингва Франка .
- Фелан, Шейн (1992). «Формы желания: сексуальная ориентация и социально-конструктивистские противоречия/Гендерные проблемы: феминизм и подрыв идентичности/Социальное конструирование лесбиянства». Журнал «Женщины, политика и политика» . 12 (1): 73– 78. doi :10.1080/1554477X.1992.9970633. – через EBSCO's Academic Search Complete (требуется подписка)